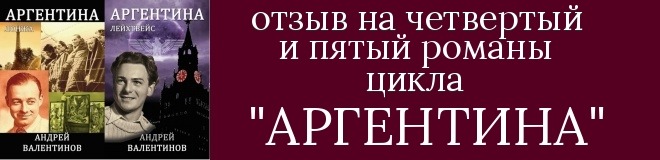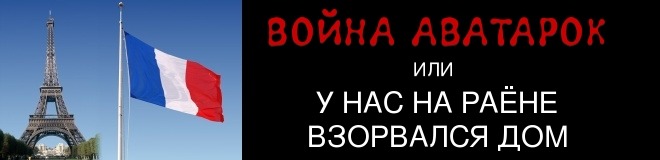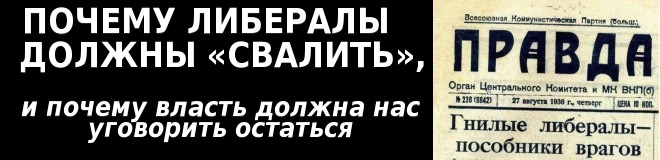Teatr О2» - ТЕАТР, КАК ТЕРАПИЯ, или о "Клятвенных Девах"

«Я несла свою беду по весеннему по льду
Подломился лёд, душа оборвалася
Камнем под воду ушла. А беда, хоть тяжела,
А за острые края задержалася»
(Владимир Высоцкий)
Носители штанов, радостно претендующие на звание мужчин по причине наличия пениса, и прочие духовные инцелы, гордо несущие знамя «менталитета», желающие и рыбку съесть, и косточкой не подавиться – всем стоило бы посмотреть спектакль «Клятвенные девы» в постановке Константина Солдатова, что идет нынче на сцене Театра «Teatr O2». Впрочем, эти, скорее всего, на этот спектакль не пойдут. Неудобно. Не выгодно. Ну и пусть. Зато пойдут те, кто не потерял способность думать.
У тех, кто умеет думать, своя проблема – рефлексия во все времена, а уж в нынешние особенно, может стать причиной перманентной депрессии. Думающий человек нынче имеет основания бояться всего. Ибо сказано: « Многия знания – многия печали», и чем больше мы знаем о себе, тем сложнее моральные и этические дилеммы, что встают перед нами: как выстраивать свои отношения с обществом и теми, кого мы любим (или не очень) в этом самом обществе.
Я часто люблю повторять тезис о том, что театр – это вам не школа и не церковь, и не надо требовать от театра выполнять функции того, за что мы уже и так заплатили налоги из наших зарплат, ну или внесли свой вклад, купив свечку или бросив купюру в «нязир гутусу» (ящик для пожертвований при мечетях). На мой взгляд, первая, основная, я бы даже сказал историческая миссия театра – это развлекать. Не более, но и не менее. И если через развлечение, как через игру, мы еще чему-то учимся, так это «счастливый бонус» мыслящего человека, потому как немыслящий и в учебном заведении ничему не научится. И если мыслящий человек еще и морально-этический урок выносит из развлечения – это тоже его счастливый бонус, ибо немыслящего даже поход в храм этичнее не сделает.
Но вот чего я не ожидал – что однажды увижу, и даже буду иметь честь сотрудничать в какой-то форме с театром, который, не будучи лечебным заведением, таки вершит самую настоящую терапию.
Репертуар в «Teatr О2» с самого начала этим и отличился: от удивительного и гениального в своей простоте «Questioning» и до невероятно глубокого решения довольно «попсовой», казалось бы бродвейской истории «Двое», от рефлексирующего на самых базовых психологических концепциях «Лондона» до сложнейшего по конструкции и драматической нагрузке спектакля «Клятвенные девы», анализирующего социальный конфликт сексизма через вопросы личностной сексуальности, практически каждая постановка выполняет свою терапевтическую функцию. Чтобы убедиться в этом достаточно остаться после спектаклей на традиционные обсуждения – эта замечательная традиция Театра О2, словно лакмусовая бумажка (хотя, кто нынче помнит, что это такое?!), своего рода тест зрителя на сопричастность и понимание. На самом деле эти обсуждения – своего рода мониторинг, даже проверка: на человечность, на две его основные составляющие. Первая составляющая – сопричастность. Сопричастность к театральному действу проверяет эмпатию, без которой примат не стал бы человеком, объединившись с себе подобными ради выживания. И вторая – рефлексия, без которого гомо эректикус так и не стал бы гомо сапиенсом.
Зритель Театра О2 – соучастник и соавтор театрального действа, и каждый спектакль этот самый зритель переживает, превращает в часть своего личного жизненного опыта. Красота – в глазах смотрящего, а у зрителя Театра О2 этой красоты в глазах довольно, чтобы шекспировская максима «Вся жизнь – театр, а люди в нем – актеры!» из плоскости уже ставшей банальной фразы обрела рельефность и объемное измерение инсайта, того самого личного опыта, который и есть на самом деле - жизнь. А жизнь, она ведь какая? Правильно – травмирующая. И значит все эти театральные переживания тоже травмируют, но только травма эта, если спектакль выполнен качественно, носит терапевтическую функцию.
Но если:
- «Лондон» Искры Таррант в исполнениии Евгения Максимова уложит вас на кушетку и уютно проанализирует,
- «Паника» Леонида Клеца протащит мужчину через «тфизиотерапию» самоанализа и поможет позврослеть, несмотря на травмы детства и юности,
- «Двое» Ирины Якубенко сдерут шелуху инфантильности и покажут, что такое «любовь по-взрослому», когда даже кажущийся абьюз превращается в жизненный урок и приносит личностную зрелость,
«Клятвенные девы» - самая настоящая хирургия, причем без наркоза. Потому что эту боль надо ощутить, иначе не будет вам никакой терапии, не будет исцеления от эскапизма, столь милого сердцу вечных инцелов, прячущих свою слабость за внешним лоском мачизма, «благородной патиной» (а на самом деле – просто коррозией) традиционализма и глубокого скрываемых нигилистичного эгоизма и самой банальной трусости. В руках мастера-хирурга этой операции, режиссера постановщика Константина Солдатова оказались удивительно точные, острые инструменты, персонажи пьесы, об авторе которой я скажу отдельно, а пока – все таки об инструментах.
Ирина Якубенко, сыгравшая Дядю Кеки – как я уже сказал, никакой анестезии Солдатов тут зрителю-пациенту не предложил, кроме как шарахнуть по самому ментальному темечку массой таланта этой невероятной актрисы, чей актерский аппарат способен выдать что угодно в руках профессионального режиссера.
Искра Таррант – как сладкое безумие актерской импрессии, мастерски реализующая трагикомедию, как хирургический зажим, фиксирующий зрителя к сценическому действу.
Татьяна Селивёрстова – скальпель пронзительно-острого актерского дарования, вскрывающий пульсирующее воспалением злой реальности сознание зрителя. Оно – очень особенная актриса, пламенная, сжигающая себя в каждом спектакле, но тут ее игра подобна выступлению акробата под куполом без страховки, настолько больно и красиво она играет.
Анара Ахундова, Айганым «Хайди» Куандыкова и Татьяна Шургалина впервые были задействованы в полноценном профессиональном актерском качестве в этом спектакле, и если уж продолжать медицинск0-терапевтическую аналогию, то их игра – это злой, жестокий, но такой необходимый антибиотик. Потому что именно ими режиссер-постановщик Константин Солдатов выжигает остатки какой-либо толерантности ко злу:
- в его конформистском проявлении в образе Старухи, которую очень ярко исполнила Анара Ахундова. Эти «мудрые» и «добрые» бабушки, несущие зло из прошлого в грядущее своим смирением и соучастием в нем – Анара сумела вызвать не только ожидаемую симпатию, но и то должное отвращение к своему персонажу, без которого лечения не будет, как ни старайся,
- трусливого смирения и протеста через «фигу в кармане» от Эдоны в весьма глубоком исполнении Татьяны Шургалиной, которая сыграла эту роль, почти при полном отсутствии реплик, одним своим многозначительным молчанием,
- и «виктим-прайсинга», этой модной ныне противоположности «виктим-блеймингу», когда жертву уже не просто освобождают от ответственности, но оправдывают даже в том зле, которое она причиняет сама, по собственному выбору, а не в силу того, что она жертва. Персонаж, очень живо исполненный Айганым «Хайди» Куандыковой, прописан драматургом, проставлен режиссером и сыгран актрисой так, что выжигает в зрителе жалость не к жертве, но соучастию жертвы в преступлении, совершаемом в том числе против нее.
К слову, о драматурге – автор пьесы, харьковчанин Олег Михайлов является живым и ярким доказательством того, что русскую литературу следует рассматривать все же в отрыве от того зла, что совершают титульные «носители» этой культуры по отношению к тем, кто эту культуру производит. В этом смысле роль харьковской литературной школы еще будет оценена историей, нам же, современникам, уже позволительно проводить аналогии… да хотя бы с с Фейхтвангером! Читавшие поймут, не читавшим – есть смысл таки восполнить пробел. И пусть мой демонстративный снобизм будет демотиватором конформизма моего читателя со своей ленью. Каждый вносит в терапевтический процесс свою лепту, как может…
Итак, спектакль «Клятвенные девы» — это самое настоящее событие в театральной жизни нашего города. Событие, которое ни один человек, считающий себя не т, чтобы интеллигентным, но претендующий на статус культурного, не имеет право пропустить хотя бы потому, что само это определение сегодня потеряло всякий смысл и поверглось полной инфляции, и никакими монетарными инструментами его уже не спасти. Только одним – походами в театр. Знакомством с культурой, которое нам в самом деле не только близко, но в чем-то является одним из истоков нашей современной национальной культуры, как бы мы это ни старались отрицать. Must see, как говорится, пока еще можем. Пока для многих из нас зло еще можно диагностировать на начальной стадии. Этот спектакль поможет. Рекомендую.
Аждар Улдуз,
Баку, декабрь 2024